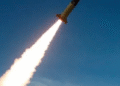После того, как 20 августа 2024 года Верховная Рада после бурных дебатов приняла Закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», ситуация вокруг УПЦ МП заметно оживилась. Закон прямо запрещает деятельность Русской православной церкви в Украине и предусматривает прекращение деятельности религиозных организаций, аффилированных с ней; уполномоченный госорган должен определять и обнародовать перечень таких аффилированных структур. Этот подход — не о «запрете веры», а об отсечении российского влияния и инфраструктурных связей, которые несут угрозу безопасности «ментального здоровья» украинцев.
Хотя сам закон слабее хороших законотворческих стандартов, а его реализация затянулась из-за ряда объективных и субъективных причин, он серьезно всколыхнул церковную среду и стал шоковой терапией для УПЦ МП. Сам закон прямо запрещает украинским религиозным организациям иметь руководящий центр в государстве-агрессоре или быть каким-либо образом аффилированными с иностранной организацией, деятельность которой запрещена. По сути, если УПЦ хочет действовать в правовом поле, ей нужно не «словесно задекларировать разрыв», а юридически и фактически подтвердить отсутствие административной зависимости от центра в государстве-агрессоре: уставы, управление, практики, имущественные и кадровые связи. Саморевизия церковной жизни УПЦ МП должна касаться не только периода после 2022 года, но и всего, что было до него, — всей современной истории деятельности. Церкви следует провести саморефлексию над собственными цивилизационными мифами, на которые ее «подсадили», и трезво разобраться с собственным духовным наследием, чтобы дать ответы на многочисленные вопросы дезориентированных верующих.
Сразу после принятия закона в УПЦ разгорелись дискуссии: как церкви жить дальше, если государство будет отбирать храмы и снимать религиозные общины с регистрации? Пик публичной полемики — выход двух подкастов с участием архиереев, символизирующих противоположные лагеря: архиепископа Белогородского Сильвестра (Стойчева), ректора Киевской духовной академии, и митрополита Черкасского Феодосия (Снигирева). Публичные дискуссии с Сильвестром (сентябрь 2025) и подкаст с Феодосием (октябрь 2025) подняли волну внутрицерковных реакций.
Архиепископ Сильвестр пытался объяснить, какой канонический статус имеет УПЦ после Собора в Феофании 27 мая 2022 года, подбирая исторические прецеденты — от самовольного поставления Ионы в 1448 году в Москве до автокефалии Православной церкви в Америке (ПЦА), предоставленной Москвой в 1970 году и до сих пор не признанной Константинополем и мировым православием. Логика Сильвестра: сегодня УПЦ находится в состоянии «фактической автокефалии», но публично декларировать ее нецелесообразно, чтобы сохранить евхаристическое общение и не раздражать те Поместные церкви, которые такую «фактичность» не признают. (Дискуссионность этих параллелей известна: 1448 год — самовольное отделение Москвы; 1970 год — частичное признание ПЦА в православном мире.)
Впрочем, аргументы Сильвестра упираются в реальность документов и практики. С одной стороны, Собор в Феофании 27.05.2022 провозгласил «полную самостоятельность и независимость» УПЦ и убрал из Устава положение о подчинении РПЦ. Это постоянно подчеркивает и предстоятель Митрополит Онуфрий в своих обращениях. С другой — существуют публикации и исследования, ставящие под сомнение полноту разрыва, указывая на противоречия между словами и юридическими реестрами/практиками. Другими словами, есть «разрыв по намерениям» и «разрыв по фактам», и они не всегда совпадают.
Сильвестру заочно в соцсетях оппонировал иерарх пророссийского крыла — управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич). Дискуссия перетекла в Facebook/Telegram, где ее подхватили многочисленные церковные каналы и комментаторы, иногда — в резко полемической манере.
Вместо этого митрополит Феодосий вынес на публику две темы, вызвавшие массу реакций: (1) сомнение в легитимности Феофаниевского Собора — «мол, его собирали под давлением силовых органов Украины»; (2) дилемма «цивилизационного выбора», которая якобы определит судьбу УПЦ. На первое обвинение неожиданно дружно отреагировали епископы, которых условно относят к «проукраинскому крылу»: они подчеркнули, что давление было только «снизу» — со стороны паствы и духовенства, которые требовали от иерархов ответа на агрессию РФ и неадекватное поведение патриарха Кирилла. Публичные свидетельства участников Собора (в частности, Каменского митрополита Владимира, митрополита Винницкого Варсонофия и др.) прямо отрицают какое-либо внешнее принуждение.
Риторическое напряжение росло: в церковных источниках/ТГ-каналах цитировали жесткие высказывания митрополита Запорожского Луки в адрес собратьев, защищавших решение Феофании (характерно для нынешнего публичного стиля полемики — резко, на грани оскорблений). Суть, однако, не в тоне, а в линиях разлома, которые вышли на поверхность.
Свидетельствуют ли эти споры о расколе в УПЦ? Уже через несколько дней после «винницкого подкаста» прозвучали призывы «прекратить раздор», потому что «это угрожает единству церкви и радует ее врагов». На этом фоне выглядит красноречивым молчание Предстоятеля — митрополит Онуфрий публично не вмешивался в полемику между архиереями. Фактически, за последний год в недавно еще монолитной церкви выделились два пассионарных разновекторных ядра.
Так называемые «кирилловцы» — принципиальные сторонники поминовения патриарха Кирилла «несмотря на политические обстоятельства». Группа небольшая (несколько архиереев), но очень громкая; за ними стоит сегмент консервативных верующих, не готовых к каким-либо шагам «прочь от Москвы» и склонных отождествлять Москву с сакральным источником благодати. Ради принципов они готовы платить высокую цену — вплоть до провоцирования раскола, «катакомбного» пути и сопротивления государственной политике безопасности.
Условно «проукраинское» крыло — «феофаниевцы» — долго «наступало себе на горло», чтобы «сохранить внутрицерковное единство». Теперь складывается впечатление, что они приобретают коллективную субъектность и дают скоординированный отпор «кирилловцам». Один из первых маркеров такой субъектности — совместное заявление нескольких десятков архиереев УПЦ МП против отстранения Синодом РПЦ Донецкого митрополита Илариона и назначения на донецкую кафедру российского «варяга». Российская сторона решение не пересмотрела, что только усилило ощущение «чужого вмешательства» во внутренние дела УПЦ.
По сути, «феофаниевцы» и «кирилловцы» должны между собой выяснить один базовый вопрос: за что на самом деле УПЦ подвергается государственным ограничениям и общественной обструкции? До недавнего времени существовал неписаный консенсус: украинское государство якобы «преследует каноническую церковь за веру». Но этот аргумент разбивается о факт, что в Украине есть другие православные юрисдикции, к которым у государства системных претензий нет; и никого «за веру» не наказывают. Если честно посмотреть в корень, УПЦ страдает не «за веру», а за тот самый «цивилизационный выбор», сделанный небольшой группой фанатиков, о котором говорил митрополит Феодосий: готовность/неготовность разорвать идеологические, управленческие и имущественные связи с институтом, который украинское государство прямо назвало соучастником агрессии и носителем идеологии «русского мира». Именно это, а не исповедание православия как такового, и является предметом правового регулирования нового закона.
В этом контексте Собор в Феофании 27.05.2022 был шансом для эволюционной «перезагрузки» — и он все же зафиксировал ряд важных моментов в Уставе. Однако дальнейшая практика, публичные заявления отдельных иерархов и затяжная «двойственность» в поведении делают вопрос «фактической автокефалии» скорее предметом дискуссии, чем консенсусом — и внутри УПЦ, и в межцерковных отношениях. Нынешний закон доказывает, что окно для имитаций закрывается: государство отделяет свободу религии от свободы организационного подчинения центрам в государстве-агрессоре. Дальнейший путь УПЦ будет зависеть не от громкости заявлений, а от способности упорядочить канонические и юридические реалии под требования безопасности и здравого смысла — и сделать это честно перед собственной паствой.